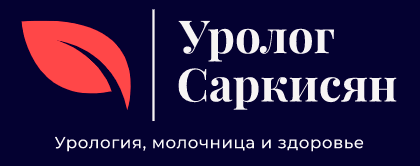Она казалась мне молочницей с эмалированным бидоном

Но стать насмешливой и чинной
и умудрённой не спеши.
Пусть будет трепетным и чистым
движение твоей души.
Пусть будет путь твой против ветра,
пусть против солнца самого,
но только чтоб не против сердца,
не против сердца твоего.
* * *
Крыли крышу, забивали молотком.
Ели кашу, запивали молоком.
На отчаянной бричке прикатил
измочаленный, небритый бригадир.
Он горланил, объезжая овраг:
— Объявляю, объявляю аврал!
Но, слова наперекор перекрыв,
гром промолвил: — Перекур, перерыв!
И, над домом занеся грозный камень,
дождик с громом вколотил гвозди капель.
То ли молния ударила о брус,
то ли сочно раскололся арбуз?
О летящая упряжка дождей!
О упорство и упрямство людей1
Кто там хнычет: – Подождём, переждём?! —
Мы работаем под яростным дождём.
* * *
Под окошками бараны, медленно блеющие…
Я живу в косом бараке, медный, небреющийся.
Вдоль стены стоят лопаты, руки воздевшие.
На полу лежат ребята полураздевшиеся.
Над горами лес приподнят — он стоит вкопанный.
Я хочу тебя припомнить, врисовать в комнату.
Словно солнце через ставни, словно взлёт ястреба, Я хочу тебя представить, ощутить явственно.
Я черты твои леплю, тонкие, вышитые…
Я тебя всегда люблю. Знаешь ли, слышишь ли ты?!
Эх, уйти бы ночью в степь злую, летящую!
Хорошо бы песню спеть длинную, светящуюся!
Но желания летят, кружатся, снижаются.
Я теряю тебя, и глаза смежаются.
* * *
Я встаю среди ночи,
придвигаю бумагу,
карандаш очиняю —
словно ястреб всклокоченный
хожу по бараку
и стихи сочиняю.
Обломав карандаш,
наливаю чернила
и перо начиняю —
придвигаюсь к столу,
наклоняюсь над миром
и писать начинаю.
А на улице вьюга
стучится в окно,
куролесит по стройке —
всё закрыла крылом,
всё смешала в одно —
корпуса и постройки.
И пурга, как дуга,
бубенцами звенит,
обрывает постромки,
окаянной позёмкой
качает дома в Постоянном посёлке.
Как склоняются ночью
в тиши
над лицом затаённым и милым —
Наклоняюсь всей силой души
над тревожным заснеженным миром.
За окошком грохочет гора —
над горой клокотанье пожара.
Там неистовая Ангара
низвергается, как Ниагара!
Но всю ночь до утра от стены
до стены я качаюсь, как колос.
Это спящему сны!
В моих космах рождается космос!
И сверкают миры,
и несётся в пространство ракета.
Я не сплю до утра,
я брожу по земле до рассвета.
Я качаю рукой,
я слога и слова сочленяю —
Я бреду по Земле и вот эти стихи сочиняю.
Берёзы
Зачем на радость лебеде —
о фиолетовое лето! —
летящих к солнцу лебедей
стреляет гром из пистолета?
Перевернувшись в облаках,
летят они, роняя слёзы,
стучатся телом в лопухах
и превращаются в берёзы.
С тех пор стоят по всей Руси
такие белые, невинные,
в зелёных капельках росы
среди коричневых осин
вот эти шеи лебединые…
* * *
Небо стало очень
синим. С длинным криком
проплывала осень
журавлиным клином.
Целовались губы
с белым караваем.
Пролетали гуси
серым караваном.
Опускались вечером
на резные крыльца,
распускали веером
голубые крылья.
Разводили перьями
в стороны, с разбега.
Улетали первыми
в сторону рассвета.
А под синей радугой
в лепете метели
над весёлой Ладогой
лебеди летели.
Проплывали стаями,
становились снегом,
расплываясь, таяли
и сливались с небом.
Гроза ночью
Когда по небу ходят молнии,
Деревья кажутся лиловыми,
А щёки, милые и мокрые,
Становятся эмалированными.
Как будто наволочку в прачечной,
Берёзку кружит и бросает.
А ты стоишь в сирени плачущей,
Смеющаяся и босая!
Когда по небу ходят молнии,
Родятся женщины красивые,
И возникают песни вольные,
И умирают люди сильные.
Когда по небу ходят возгласы,
Земля наполнена духами,
А мы летим с тобой по воздуху,
И грудь — на полное дыханье!
Но как торопко ты померкла,
Сирень в блестящем целлофане!
О, эта робкая примерка
Двух губ при первом целованье!
* * *
Зима была такой молоденькой,
Такой весёлой и бедовой!
Она казалась мне молочницей
С эмалированным бидоном.
Но чистота её молочная
На брызги белые разлетелась.
Зачем ты на меня, морозного,
Глазами синими загляделась?
К чему, румяная молочница,
зачем, зелёное растение,
мне голову ты заморочила,
задумчивая и растерянная?
Ну, для чего ты мне поверила?
Не удержалась, приласкала!..
Всё, что несла, всё, что лелеяла,
Разбрызгала и расплескала.
* * *
Снег бился из последних сил.
А ветер, как из поддувала,
с бульвара дул и уносил
троллейбус к краю тротуара.
Смотрела из-под синих век
луна, покрытая морщинами.
С дороги подымало снег
и уносило за машинами.
Его вращало колесом,
он не давал ступить ни шага
и улетал за горизонт —
вокруг всего земного шара.
Снег залетал в девичий смех,
в лицо по-новгородски окал.
Снег заметал тяжёлый след
у ярко освещённых окон.
А там Литейного моста
пролёт. Чугунная ограда.
И, как далёкая мечта,
холодный призрак Ленинграда.
Я зарываюсь в этот мир,
в его заснеженные шубы.
Я забываю в этот миг
твои неласковые губы.
И ты не властна надо мной,
смешная, светлая, живая:
как этот снег над головой
летишь, души не задевая!
* * *
Опалённый дыханием вечности,
первозданный, родившийся для
тебя, я клянусь тебе в верности
до конца, до последнего дня.
Мимо глаз твоих синие верески
потянулись с зелёных полей.
Я клянусь тебе, девочка, в верности
всем дыханием жизни моей.
Я клянусь тебе, милая, в верности
этим солнцем над зимней рекой,
этой травкой, исполненной нежности,
этим сердцем и этой строкой.
Общей радостью, общим страданием,
словно лебедь, кричащий во ржи,
я лечу одиноким преданием,
не запятнанный ржавчиной лжи.
Все промчится, рассыплется в ветхости,
словно яркая вспышка огня.
Я клянусь тебе, девочка, в верности
до конца, до последнего дня.
И, завянув, зелёные верески
пролетят мимо синих полей.
Всё равно я клянусь тебе в верности
всем дыханием жизни моей!
Прощание с Братском
Скоро
на Братскую ГЭС
упадёт снег,
станет кружиться
метельное молоко…
Только в душе
я навеки
останусь с ней,
как бы она
ни была
от меня далеко.
Скоро морозом
прихватит живую траву,
вслед за морозом
падут молодые снега —
утром нагрянут
и нашу с тобою тропу
враз заметут,
не оставят на ней
ни следа.
Слышишь, любимая! Я тебя очень люблю —
вот моё сердце,
горячее красное
яблоко.
Руки твои,
плечи твои ловлю —
губы твои,
как таёжная сладкая ягода.
Я раздвигаю плечами
заснеженный лес
и, улетая
навстречу горячим очам,
буду во сне
опускаться
на Братскую ГЭС,
стану тебя,
как стихи,
вспоминать по ночам.
Осень пройдёт,
как любимая,
воспламеня
сердце,
в котором качается
бронзовый лес.
Вспомнишь ли
только
когда-нибудь
ты про меня,
светловолосая женщина?..
Братская ГЭС
Источник
Выбрать главу
С тех пор стоят по всей Руси
такие белые, невинные,
в зелёных капельках росы
среди коричневых осин
вот эти шеи лебединые…
* * *
Небо стало очень
синим. С длинным криком
проплывала осень
журавлиным клином.
Целовались губы
с белым караваем.
Пролетали гуси
серым караваном.
Опускались вечером
на резные крыльца,
распускали веером
голубые крылья.
Разводили перьями
в стороны, с разбега.
Улетали первыми
в сторону рассвета.
А под синей радугой
в лепете метели
над весёлой Ладогой
лебеди летели.
Проплывали стаями,
становились снегом,
расплываясь, таяли
и сливались с небом.
Гроза ночью
Когда по небу ходят молнии,
Деревья кажутся лиловыми,
А щёки, милые и мокрые,
Становятся эмалированными.
Как будто наволочку в прачечной,
Берёзку кружит и бросает.
А ты стоишь в сирени плачущей,
Смеющаяся и босая!
Когда по небу ходят молнии,
Родятся женщины красивые,
И возникают песни вольные,
И умирают люди сильные.
Когда по небу ходят возгласы,
Земля наполнена духами,
А мы летим с тобой по воздуху,
И грудь — на полное дыханье!
Но как торопко ты померкла,
Сирень в блестящем целлофане!
О, эта робкая примерка
Двух губ при первом целованье!
* * *
Зима была такой молоденькой,
Такой весёлой и бедовой!
Она казалась мне молочницей
С эмалированным бидоном.
Но чистота её молочная
На брызги белые разлетелась.
Зачем ты на меня, морозного,
Глазами синими загляделась?
К чему, румяная молочница,
зачем, зелёное растение,
мне голову ты заморочила,
задумчивая и растерянная?
Ну, для чего ты мне поверила?
Не удержалась, приласкала!..
Всё, что несла, всё, что лелеяла,
Разбрызгала и расплескала.
* * *
Снег бился из последних сил.
А ветер, как из поддувала,
с бульвара дул и уносил
троллейбус к краю тротуара.
Смотрела из-под синих век
луна, покрытая морщинами.
С дороги подымало снег
и уносило за машинами.
Его вращало колесом,
он не давал ступить ни шага
и улетал за горизонт —
вокруг всего земного шара.
Снег залетал в девичий смех,
в лицо по-новгородски окал.
Снег заметал тяжёлый след
у ярко освещённых окон.
А там Литейного моста
пролёт. Чугунная ограда.
И, как далёкая мечта,
холодный призрак Ленинграда.
Я зарываюсь в этот мир,
в его заснеженные шубы.
Я забываю в этот миг
твои неласковые губы.
И ты не властна надо мной,
смешная, светлая, живая:
как этот снег над головой
летишь, души не задевая!
* * *
Опалённый дыханием вечности,
первозданный, родившийся для
тебя, я клянусь тебе в верности
до конца, до последнего дня.
Мимо глаз твоих синие верески
потянулись с зелёных полей.
Я клянусь тебе, девочка, в верности
всем дыханием жизни моей.
Я клянусь тебе, милая, в верности
этим солнцем над зимней рекой,
этой травкой, исполненной нежности,
этим сердцем и этой строкой.
Общей радостью, общим страданием,
словно лебедь, кричащий во ржи,
я лечу одиноким преданием,
не запятнанный ржавчиной лжи.
Все промчится, рассыплется в ветхости,
словно яркая вспышка огня.
Я клянусь тебе, девочка, в верности
до конца, до последнего дня.
И, завянув, зелёные верески
пролетят мимо синих полей.
Всё равно я клянусь тебе в верности
всем дыханием жизни моей!
Прощание с Братском
Скоро
на Братскую ГЭС
упадёт снег,
станет кружиться
метельное молоко…
Только в душе
я навеки
останусь с ней,
как бы она
ни была
от меня далеко.
Скоро морозом
прихватит живую траву,
вслед за морозом
падут молодые снега —
утром нагрянут
и нашу с тобою тропу
враз заметут,
не оставят на ней
ни следа.
Слышишь, любимая! Я тебя очень люблю —
вот моё сердце,
горячее красное
яблоко.
Руки твои,
плечи твои ловлю —
губы твои,
как таёжная сладкая ягода.
Я раздвигаю плечами
заснеженный лес
и, улетая
навстречу горячим очам,
буду во сне
опускаться
на Братскую ГЭС,
стану тебя,
как стихи,
вспоминать по ночам.
Осень пройдёт,
как любимая,
воспламеня
сердце,
в котором качается
бронзовый лес.
Вспомнишь ли
только
когда-нибудь
ты про меня,
светловолосая женщина?..
Братская ГЭС
Фестиваль
Я славлю утреннее солнце
в движенье праздничного танца,
в улыбке смуглого японца,
в глазах поющего испанца!
Пусть никогда темно и сонно
пожар над миром не клубится —
я славлю молодое солнце
в сердцах шагающих кубинцев.
Пою, как радостную землю,
как рощу, тронутую зернью,
весь мир, который благосклонно
лежит в ладонях небосклона!
Пусть никогда не уставая,
сопутствуемое зарёю,
цветной эмблемой фестиваля
восходит солнце над землёю!
Библиографическая справка
«Месяц». М., изд-во «Молодая гвардия», 1962.
Стихи из сборников
«Первое слово», М., изд-во «Московский рабочий», 1958.
«Встреча». М., изд-во «Молодая гвардия», 1962.
«День поэзии»: 1961, 1962, 1963 гг.
Document Outline
СОДЕРЖАНИЕ
Источник
Но стать насмешливой и чинной
и умудрённой не спеши.
Пусть будет трепетным и чистым
движение твоей души.
Пусть будет путь твой против ветра,
пусть против солнца самого,
но только чтоб не против сердца,
не против сердца твоего.
* * *
Крыли крышу, забивали молотком.
Ели кашу, запивали молоком.
На отчаянной бричке прикатил
измочаленный, небритый бригадир.
Он горланил, объезжая овраг:
— Объявляю, объявляю аврал!
Но, слова наперекор перекрыв,
гром промолвил: — Перекур, перерыв!
И, над домом занеся грозный камень,
дождик с громом вколотил гвозди капель.
То ли молния ударила о брус,
то ли сочно раскололся арбуз?
О летящая упряжка дождей!
О упорство и упрямство людей1
Кто там хнычет: – Подождём, переждём?! —
Мы работаем под яростным дождём.
* * *
Под окошками бараны, медленно блеющие…
Я живу в косом бараке, медный, небреющийся.
Вдоль стены стоят лопаты, руки воздевшие.
На полу лежат ребята полураздевшиеся.
Над горами лес приподнят — он стоит вкопанный.
Я хочу тебя припомнить, врисовать в комнату.
Словно солнце через ставни, словно взлёт ястреба, Я хочу тебя представить, ощутить явственно.
Я черты твои леплю, тонкие, вышитые…
Я тебя всегда люблю. Знаешь ли, слышишь ли ты?!
Эх, уйти бы ночью в степь злую, летящую!
Хорошо бы песню спеть длинную, светящуюся!
Но желания летят, кружатся, снижаются.
Я теряю тебя, и глаза смежаются.
* * *
Я встаю среди ночи,
придвигаю бумагу,
карандаш очиняю —
словно ястреб всклокоченный
хожу по бараку
и стихи сочиняю.
Обломав карандаш,
наливаю чернила
и перо начиняю —
придвигаюсь к столу,
наклоняюсь над миром
и писать начинаю.
А на улице вьюга
стучится в окно,
куролесит по стройке —
всё закрыла крылом,
всё смешала в одно —
корпуса и постройки.
И пурга, как дуга,
бубенцами звенит,
обрывает постромки,
окаянной позёмкой
качает дома в Постоянном посёлке.
Как склоняются ночью
в тиши
над лицом затаённым и милым —
Наклоняюсь всей силой души
над тревожным заснеженным миром.
За окошком грохочет гора —
над горой клокотанье пожара.
Там неистовая Ангара
низвергается, как Ниагара!
Но всю ночь до утра от стены
до стены я качаюсь, как колос.
Это спящему сны!
В моих космах рождается космос!
И сверкают миры,
и несётся в пространство ракета.
Я не сплю до утра,
я брожу по земле до рассвета.
Я качаю рукой,
я слога и слова сочленяю —
Я бреду по Земле и вот эти стихи сочиняю.
Берёзы
Зачем на радость лебеде —
о фиолетовое лето! —
летящих к солнцу лебедей
стреляет гром из пистолета?
Перевернувшись в облаках,
летят они, роняя слёзы,
стучатся телом в лопухах
и превращаются в берёзы.
С тех пор стоят по всей Руси
такие белые, невинные,
в зелёных капельках росы
среди коричневых осин
вот эти шеи лебединые…
* * *
Небо стало очень
синим. С длинным криком
проплывала осень
журавлиным клином.
Целовались губы
с белым караваем.
Пролетали гуси
серым караваном.
Опускались вечером
на резные крыльца,
распускали веером
голубые крылья.
Разводили перьями
в стороны, с разбега.
Улетали первыми
в сторону рассвета.
А под синей радугой
в лепете метели
над весёлой Ладогой
лебеди летели.
Проплывали стаями,
становились снегом,
расплываясь, таяли
и сливались с небом.
Гроза ночью
Когда по небу ходят молнии,
Деревья кажутся лиловыми,
А щёки, милые и мокрые,
Становятся эмалированными.
Как будто наволочку в прачечной,
Берёзку кружит и бросает.
А ты стоишь в сирени плачущей,
Смеющаяся и босая!
Когда по небу ходят молнии,
Родятся женщины красивые,
И возникают песни вольные,
И умирают люди сильные.
Когда по небу ходят возгласы,
Земля наполнена духами,
А мы летим с тобой по воздуху,
И грудь — на полное дыханье!
Но как торопко ты померкла,
Сирень в блестящем целлофане!
О, эта робкая примерка
Двух губ при первом целованье!
* * *
Зима была такой молоденькой,
Такой весёлой и бедовой!
Она казалась мне молочницей
С эмалированным бидоном.
Но чистота её молочная
На брызги белые разлетелась.
Зачем ты на меня, морозного,
Глазами синими загляделась?
К чему, румяная молочница,
зачем, зелёное растение,
мне голову ты заморочила,
задумчивая и растерянная?
Ну, для чего ты мне поверила?
Не удержалась, приласкала!..
Всё, что несла, всё, что лелеяла,
Разбрызгала и расплескала.
* * *
Снег бился из последних сил.
А ветер, как из поддувала,
с бульвара дул и уносил
троллейбус к краю тротуара.
Смотрела из-под синих век
луна, покрытая морщинами.
С дороги подымало снег
и уносило за машинами.
Его вращало колесом,
он не давал ступить ни шага
и улетал за горизонт —
вокруг всего земного шара.
Снег залетал в девичий смех,
в лицо по-новгородски окал.
Снег заметал тяжёлый след
у ярко освещённых окон.
А там Литейного моста
пролёт. Чугунная ограда.
И, как далёкая мечта,
холодный призрак Ленинграда.
Я зарываюсь в этот мир,
в его заснеженные шубы.
Я забываю в этот миг
твои неласковые губы.
И ты не властна надо мной,
смешная, светлая, живая:
как этот снег над головой
летишь, души не задевая!
* * *
Опалённый дыханием вечности,
первозданный, родившийся для
тебя, я клянусь тебе в верности
до конца, до последнего дня.
Мимо глаз твоих синие верески
потянулись с зелёных полей.
Я клянусь тебе, девочка, в верности
всем дыханием жизни моей.
Я клянусь тебе, милая, в верности
этим солнцем над зимней рекой,
этой травкой, исполненной нежности,
этим сердцем и этой строкой.
Общей радостью, общим страданием,
словно лебедь, кричащий во ржи,
я лечу одиноким преданием,
не запятнанный ржавчиной лжи.
Все промчится, рассыплется в ветхости,
словно яркая вспышка огня.
Я клянусь тебе, девочка, в верности
до конца, до последнего дня.
И, завянув, зелёные верески
пролетят мимо синих полей.
Всё равно я клянусь тебе в верности
всем дыханием жизни моей!
Прощание с Братском
Скоро
на Братскую ГЭС
упадёт снег,
станет кружиться
метельное молоко…
Только в душе
я навеки
останусь с ней,
как бы она
ни была
от меня далеко.
Скоро морозом
прихватит живую траву,
вслед за морозом
падут молодые снега —
утром нагрянут
и нашу с тобою тропу
враз заметут,
не оставят на ней
ни следа.
Слышишь, любимая! Я тебя очень люблю —
вот моё сердце,
горячее красное
яблоко.
Руки твои,
плечи твои ловлю —
губы твои,
как таёжная сладкая ягода.
Я раздвигаю плечами
заснеженный лес
и, улетая
навстречу горячим очам,
буду во сне
опускаться
на Братскую ГЭС,
стану тебя,
как стихи,
вспоминать по ночам.
Осень пройдёт,
как любимая,
воспламеня
сердце,
в котором качается
бронзовый лес.
Вспомнишь ли
только
когда-нибудь
ты про меня,
светловолосая женщина?..
Братская ГЭС
Источник
Когда я пришёл в газету, Лариса Ивановна уже работала там у Синельникова. Говорили, что она поссорилась с Кочетовым. Может быть, это и так. Мы с ней общались мало. К тому же и проработала она при мне недолго: пролежала несколько месяцев в больнице, из которой уже не вышла.
Но мой приятель Станислав Рассадин рассказывал, как она его удивила, сказав, что является поклонницей его таланта. Может, она и в самом деле лицемерила в «Октябре»? В статьях, которые она напечатала после ухода из него, действительно нет той прежней, животной злобы к авторам «молодёжной прозы» или к тем, кто отступал от принципов социалистического реализма. Но нет в её статьях и того, что зовут искрой Божьей. Написаны они вяло и скучно.
Уехав на Запад, заместитель Веселовского по «Клубу 12 стульев» Илья Суслов, выпустил книгу о «Литературке» в соавторстве с первым нашим редакционным эмигрантом Виктором Перельманом, работавшим у нас заведующим отделом информации. Я их книгу не читал (не попадалась). Но в парижской «Русской мысли», которую изредка удавалось взять почитать, как теперь говорят, из надёжного источника, и, кажется, в перельмановском журнале «Время и мы» (его вообще давали на одну ночь!) несколько раз я встречал анонс их книги с воспроизведением её содержания. Так я узнал, что среди прочих её глав есть и та, что названа авторами «Репликист Миша Синельников».
Да, это правда. Именно – репликист. В этом жанре Михаил Ханаанович работал истово, что называется, не жалея живота. Казалось, что в них он выражает даже свои комплексы. Комплексовал ли он? Очень возможно. Внешне он напоминал калеку, хотя был абсолютно здоров: широкоплечий, на коротких ногах, с непомерно большой для его роста головой.
Итак, он писал реплики. Сперва, как я уже сказал, один, а потом нередко с пришедшим в газету вместо Крячко Фёдором Аркадьевичем Чапчаховым.
Были эти реплики на редкость безликими, натужно претендовавшими на юмор и агрессивно-охранительными, иногда даже нешуточно угрожающими тем, кто позволил себе хоть какое-то отступление от единомыслия.
Но моё публичное столкновение с Синельниковым на летучке произошло из-за реплики, посвящённой статье в родственной Синельникову алексеевской «Москве». Михаил Алексеев только недавно взял себе в замы Анатолия Елкина, который в первой же напечатанной в журнале статье позволил себе несколько колкостей в адрес «Литературной газеты». А этого наше начальство не любило и приказало ответить Елкину, который уж никак не являлся идейным противником Синельникова. Наоборот!
Ёлкин был известным литературным шулером. Подтасовкой и передёргиванием отличались его статьи ещё в «Комсомольской правде», где он руководил отделом литературы и откуда его прогнали лет за восемь до того, как он пришёл в «Москву».
Не знаю подлинных причин, но в то время рассказывали почти анекдотическую историю, за что из «Комсомолки» выгнали Елкина. Якобы он попался на трюке, который до этого ему удалось проделать не один раз, так что за ним уже следили. Он приходил в ресторан, выпивал, закусывал, а потом подзывал к себе официанта и показывал ему муху, плавающую на дне недоеденной солянки. Ловил он эту муху на месте или приносил с собой, ни один рассказчик этой истории не знал.
Разгорался скандал, подбегал метрдотель, предлагал заменить испорченное блюдо любым другим, но Елкин требовал, чтобы его провели в кабинет директора. И добивался своего.
Директору он показывал красную редакционную книжечку, твёрдо обещал ему фельетон. И уходил от директора если и без подарка (что очень сомнительно), то уж непременно хорошо напоенным и накормленным и не заплатившим за это ни копейки.
Но однажды фокус не удался. В директорском кабинете вместе с хозяином сидел человек, который преспокойно взял из рук Елкина его удостоверение, раскрыл, а потом положил к себе в карман, сказав, что отдаст его главному редактору «Комсомолки», а заодно спросит у редактора, почему для инспектирования точек общественного питания газета посылает хоть и члена редколлегии, но заведующего таким отделом, который не имеет отношения ни к торговле, ни к общественному питанию…
(Ещё раз оговариваю, что этот анекдот передаю с чужих слов. Поэтому не настаиваю на его подлинности. Но за правдоподобность другой истории, связанной с тем же отделом литературы «Комсомолки», могу поручиться. Несколько лет после того, как выгнали Елкина, проработал в отделе поэт Игорь Ринк, а потом столичные писатели-коммунисты избрали его своим освобождённым секретарём. На этой должности он и пробыл до ревизии, обнаружившей крупную растрату членских взносов. «Откуда мне теперь взять такую сумму?» – сокрушённо ответил он на предложение покрыть растрату. Его не исключили из партии и не выгнали из Союза писателей. Учли, как объяснили, его фронтовое прошлое. Но хлебного места секретаря парткома его всё-таки лишили!)
Синельникова, как и Алексеева, сомнительная репутация Елкина не смущала. На этот раз поручение начальства он (Синельников) исполнял с явной неохотой. Его ответ вышел дряблым с бесконечными расшаркиваниями перед Елкиным. Смысл реплики прочитывался однозначно: дескать, ну зачем же так, Толя, ведь мы же с тобою одной крови! Но не это толкнуло меня выступить на летучке.
Незадолго до этого я прочитал ту самую статью Елкина и очень удивился его утверждению, что раньше-де критики Сарнов и Рассадин хвалили поэта Юрия Панкратова, а теперь они его ругают. Причём ругают именно за то, за что хвалили прежде. Почему бы это, спрашивал Елкин. И отвечал: не потому ли, что Панкратов занял сейчас жёсткую, непримиримую позицию по отношению к любым формам абстракционизма? Елкин ссылался на недавно опубликованную в «Новом мире» очень смешную рецензию Станислава Рассадина, который показал, что серьёзного отношения к себе книга Панкратова и не заслуживает.
Ну, хорошо. Рассадин действительно очень убедительно в пух и в прах разнёс Панкратова. Но когда он его хвалил? Когда его хвалил Бенедикт Сарнов? Это я, будучи студентом, в соавторстве со своим преподавателем напечатал статью о первых книгах молодых поэтов, где положительно отозвался и о книжке Панкратова. (Я уже говорил, что поначалу написал много дряни, о чём и поведал ещё в 1965-м за круглым столом «Вопросов литературы», напечатавших это моё выступление.) Но Рассадин? Но Сарнов? Лет восемь-девять назад до событий, о которых пишу, я прочитал статью Сарнова, где он, процитировав очень известные тогда строчки Панкратова: «Зима была такой молоденькой, / Такой весёлой и бедовой! / Она казалась мне молочницей / С эмалированным бидоном», спрашивал: «Вы когда-нибудь видели у молочниц эмалированные бидоны? Скажете: пустяк? А я отвечу, что это отсутствие интереса к реальной жизни, пренебрежение реальностью ради поэтического фокусничанья». Я пересказываю Сарнова своими словами, но смысл его высказывания передаю точно. Да и не любил Сарнов никогда формалистов или абстракционистов. И Рассадин их не любил.
Источник